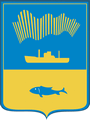
Мурманск
Кольский полуостров, Северо-Запад России
Сто страниц истории к 100-летию Мурманска. Заполярная столица: между мечтой и реальностью
Опубликовано3328 дн. назад
В Мурманске, как, может быть, нигде более, тесно переплетены между собой мечта и реальность, прошлое и будущее. Уже само появление на этих северных широтах полумиллионного мегаполиса – а к концу советской эпохи областной центр был именно таким – всего за десяток лет до его основания могло показаться маниловщиной, беспочвенным прожектерством. А теперь уже тот город – пятисоттысячник – воспринимается юными мурманчанами как нечто давнее, нереальное. О мечтах и реалиях, соединенных в истории заполярной столицы, я и напишу.
Оленьи бега на Кильдине
Большое будущее нашему краю предрекали давно, но более или менее явственно контуры грядущей светлой жизни, связанные в том числе и с созданием незамерзающего порта, стали проступать только во второй половине XIX века. Известный писатель Василий Иванович Немирович-Данченко, проницая время, утверждал в 1877 году, что на землях дикой Лапландии вырастут “торговые города… Глушь ее и захолустье прорежутся дорогами. Номады-оленеводы обратятся в оседлых промышленников, и на месте нынешнего царства смерти и безлюдья возникнет живая и кипучая деятельность трудового населения, явятся центральные рынки, и могучая воля человека сумеет вызвать к жизни и недра гранитных гор, и непроходимые дебри земли лопской. У мрачного полюса будет отнята человеком еще одна страна, еще раз мысль и энергия восторжествуют над слепыми силами природы!”.
В 1895-м журналист Евгений Львов, побывав в Екатерининской гавани, на берегу которой позже вырос Александровск – нынешний Полярный, предсказал уже и некоторые детали быта еще не построенного краевого центра. “Лет через 25, – пояснял он в книге “По студеному морю”, – Екатерининская дума заговорит о канализации города, а репортеры Екатерининского или вообще Мурманского вестника будут сообщать местным читателям об оленьих бегах на острове Кильдине и о том, что тотализатор вчера за такого-то оленя-победителя выдал выигравшим такую-то сумму”.
Вот уж точно, чем безнадежней настоящее, тем ярче греза. Когда писались приведенные выше строки, наиболее распространенными типами поселений на Кольском полуострове были колонии и становища. О первых местный уездный исправник в отчете за 1885 год, который хранится ныне в Государственном архиве Мурманской области, доносил вышестоящему начальству, что “колонии, где поселяются русские, есть не что иное, как… несколько изб, построенных тесно между собою, так что развести огород и думать нечего, потому что даже негде поставить отдельного хлева для скота, а через это беспрерывные ссоры колонистов между собою и с промышленниками из-за того, что скот, разгуливая по колонии, портит промысловые снасти… Такие колонии чем будут становиться населеннее, то спорных дел будет становиться больше, а пользы никакой”. О вторых, предназначенных для житья во время рыбных промыслов, категорически отозвался побывавший на Мурмане в том же 1885-м поэт Константин Случевский, отметивший, что в этих временных пристанищах
“…помору хуже:
тут, как и в море,
вечно сир и нищ,
живет он впроголодь,
а спит во тьме и стуже
на гнойных нарах
мрачных становищ”.
По мановению волшебника
В общем, мечта и действительность не совпадали. Контраст между воздушными замками и суровой реальностью потрясал воображение. И с возникновением Мурманска он не только никуда не исчез, но усугубился еще более. С самого рождения заполярную столицу пышно именовали северным окном в Европу и вторыми Дарданеллами, сравнивая с Петроградом и Константинополем. В 1916 году газета “Русское слово” сообщала читателям, что строящийся на берегу Кольского залива незамерзающий порт станет городом нового типа: с электричеством, канализацией, водопроводом. Уровень комфорта планировался вполне европейский, и все житейские блага ожидались в самом скором времени. “Несомненно, – предсказывал известный журналист и писатель Андрей Селитренников, – в Романове быстро возникнут многочисленные конторы по импорту и экспорту; появится в самом начале немало народу, связанного с нашей торговлей с Западом; возникнут, должно быть, заводы и склады для моторных ботов и их частей для нужд мурманских рыбопромышленников… появятся рыбокоптильные заводы, заводы для приготовления рыбных консервов; вывоз зерна, леса, ввоз английских и американских товаров – все это оживит, создаст кипучую портовую жизнь, даст городу население, средства к существованию… Да, город вырастет, поднимется из земли точно по мановению волшебника”, взору явятся “радостные кресты храмов и крыши огромных строений, и порт, гудящий жизнью, пестрый флагами, многострунный высокими гордыми мачтами… Прозвучат слова дружбы и взаимного понимания, раздастся громкая русская речь, свободная, знающая цену себе”.
Что же вышло на самом деле? Действительно получился город нового типа, но в полностью противоположном задуманному смысле: город-времянка, город-ночлежка, город-развалюха. Да и как он мог быть иным, если его нормальному строительству все время мешали непреодолимые исторические обстоятельства.
Судите сами. Первому плану застройки Мурманска, предложенному в 1916 году инженером Борисом Сабаниным, помешала осуществиться февральская революция. Улицы, названные именами членов царской семьи, не подходили для новой, республиканской власти. Второму плану, составленному архитектором Павлом Алешиным и принятому 5 октября 1917-го, не позволила сбыться состоявшаяся в конце того же месяца очередная смена власти, коренным образом изменившая общую ситуацию в стране и крае. План постройки, выработанный при белых и утвержденный 9 января 1919 года, также остался на бумаге из-за наступившего в Северной области ресурсного кризиса, закончившегося приходом красных.
Образец хаоса
Среди прочего не удалось соорудить и величественный собор, рассчитанный на тысячу молящихся. Решение о его строительстве было принято 12 февраля 1917 года на заседании специального государственного органа – Особого междуведомственного совещания по устроению и развитию Русского Севера. Идею поддержал последний русский император Николай Второй, начертавший на соответствующем докладе совещания: “Вполне сочувствую этой мысли”. Собор должен был стать храмом-памятником всем павшим в первой мировой войне, а также трудовому подвигу строителей Мурманской железной дороги. Уже создали комитет по его строительству, объявили всероссийский сбор средств. Но из-за потрясших страну в 1917-м глобальных катаклизмов планы так и не воплотились в жизнь.
В итоге с самого возникновения заполярной столицы мечта и реальность существовали практически параллельно, не пересекаясь друг с другом. Благоустроенный и благополучный Мурманск, задуманный в досоветский период, так и остался “городом, которого нет”. Настоящий же краевой центр долго являл собой в архитектурном плане образец хаоса и почти полного беспорядка. При минимуме организованной застройки люди сооружали что могли, как могли и буквально из того, что попадется под руку. Капитальные деревянные дома считались роскошью. Гораздо более популярными, если судить по количеству, были бараки и “чемоданы” – постройки из гофрированного железа с полукруглой крышей. А еще селились в землянках, в вагонах, жили на стоявших в заливе кораблях, возводили “шедевры зодчества” из досок, фанеры, выловленных в заливе бревен, брошенных шпал и даже из бочковой клепки.
Город казался вымершим
“Мы добрались до Мурманска, в те дни грязного и заброшенного”, – писал, вспоминая свой отъезд из России в конце мая – начале июня 1918 года бывший глава Временного правительства Александр Керенский. “Вряд ли можно найти более унылое место, чем это, особенно в мрачных лучах полуночного солнца: широкий залив с серо-зеленой водой, окруженный низкими коричневыми холмами без какой-либо растительности, которая могла бы порадовать глаз, и неподалеку от него скопление серых деревянных избушек и домиков… Город казался вымершим”, – таким увидел заполярную столицу тогда же, в июне 1918-го британский офицер Филипп Вудс. Служивший в краевом центре в 1919 году Николай Буторов сообщал, что “он поражал своею мизерностью. Это была скорее деревня… Жизнь в Мурманске была лишена даже самых примитивных удобств. Те… которых я мало-мальски знал… попав в Мурманский край и познакомившись с его тяжелыми условиями, не задерживаясь, прилагали все усилия для перевода в Архангельск”.
Несоответствие задуманного и осуществленного достигло пика в самом начале двадцатых. Численность населения северного окна в Европу едва переваливала в ту пору за две тысячи человек, а сам город находился в жесточайшем жилищном кризисе. “Нет ни улиц, ни дворов, – отзывались о нем в 1921 году вологодские экскурсанты, – все сделано наспех, как попало”. Тем не менее в 1920-м, после окончательного установления на Кольском полуострове советской власти, инженер “для технических работ” Мурманской железной дороги Антонина Васильевна Сабанина-Костяева разработала новый генеральный план Мурманска – на 30 тысяч жителей. И мурманчанам уже вновь грезился мегаполис, отвечающий последнему слову цивилизации. “Мурманск… призван быть Антверпеном, Гамбургом или Нью-Йорком Советской России”, – утверждал 1 февраля 1921 года со страниц “Северной правды” военмор Батис. Постепенно, очень медленно заполярная столица начинала меняться.
Дмитрий ЕРМОЛАЕВ, сотрудник Государственного архива Мурманской области
http://vmnews.ru/proekty/100-stranic/2014/02/17/zapolarnaa-stolica-mezdu-mectoj-i-real-nost-u
Больше информации о: Алешин, Батис, Буторов, Вудс, Ермолаев, Керенский, Кольский залив, Львов, Мурманский вестник, Немирович-Данченко, Николай II, Сабанин, Сабанина-Костяева, Северная правда, Селитренников, Случевский
↑ 100-летие Мурманска «прорекламируют» в столице Норвегии
↓ Губернатор Марина Ковтун поставила перед главой Мурманска Алексеем Веллером задачи по преобразованию областного центра в 2014 году
Новости Мурманска
0No feed items.
Все новости Мурманска и Мурманской области >>

